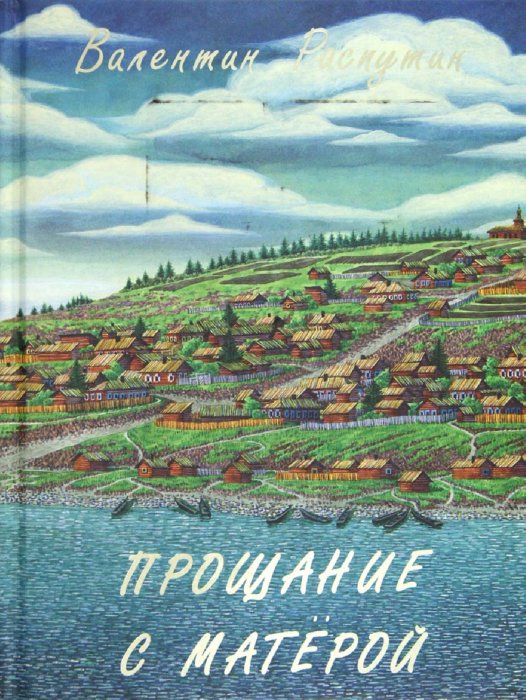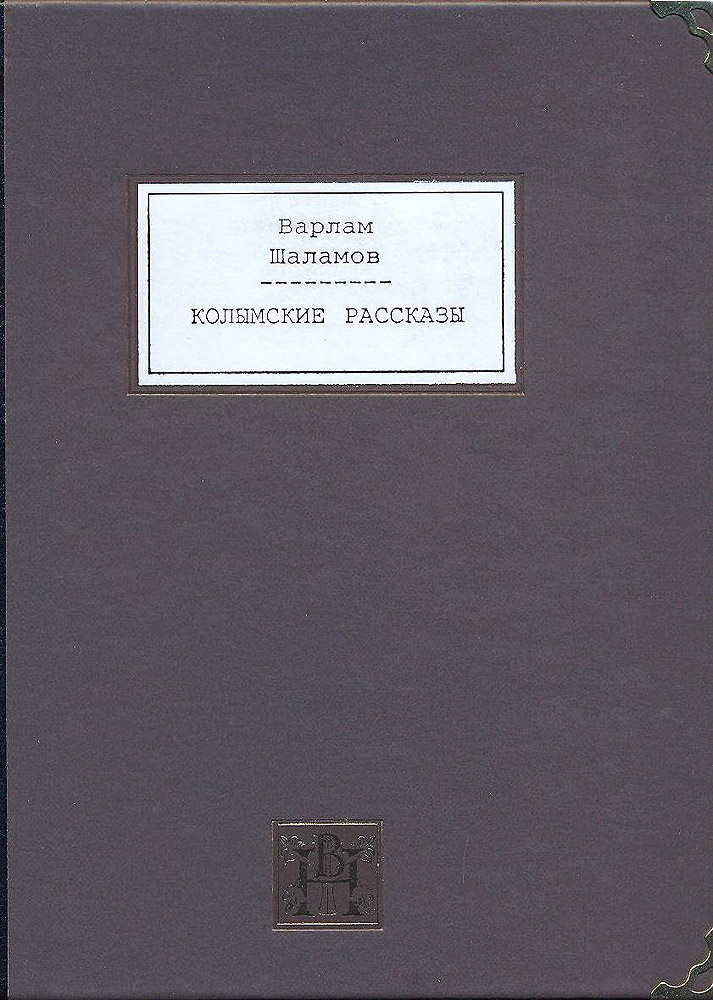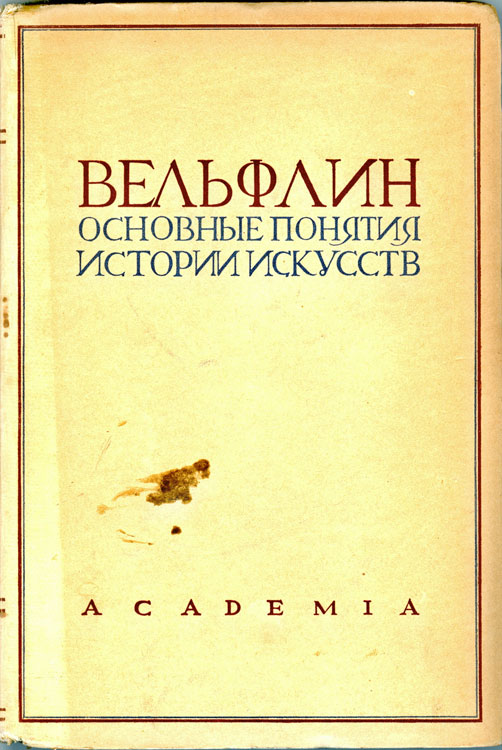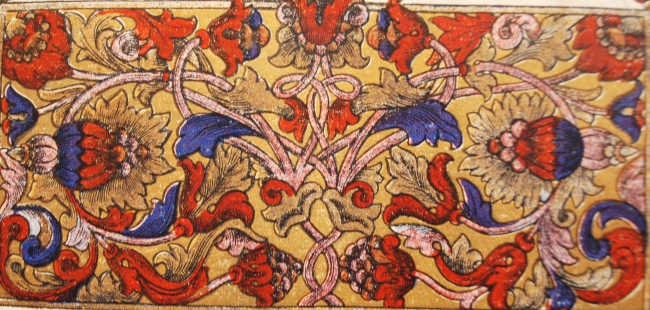Ольга Брейнингер. СУРОВОЕ «БАРОККО»: НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН
Пересмотреть устоявшиеся каноны, убедиться, что они по-прежнему действительны, или обновить свою эстетическую шкалу, – умозрительные задачи такого рода время от времени ставит себе любой читатель, от профессионального критика до школьника, осваивающего базовые тексты русской классики.
Своеобразная ревизия может принести неожиданные результаты, и вот мой очередной вопрос – наполовину литературоведческий, наполовину культурно-антропологический: в каких текстах наиболее ярко воплотились основные черты и тенденции современной литературы, её стилистические особенности, выбор сюжетов, героев, декораций, её задачи и выводы, её цели и средства?
Перебирая в памяти названия книг последних лет, нашумевшие и не очень, понравившиеся или оставившие равнодушной, я с удивлением понимаю, что два текста, которые мне кажутся наиболее «говорящими», характерными для современной литературы – это романы, находящиеся как будто на противоположных сторонах литературного спектра: «Обитель» Захара Прилепина и «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. Казалось бы, что в них общего, кроме того, что оба связаны с премией «Большая книга» (с одной стороны, безусловный фаворит и победитель прошлого года, а другой – яркий дебют нынешнего)? И, тем не менее, это не единственное, что роднит «Обитель» и «Зулейха открывает глаза».
Что ещё общего между романами Прилепина и Яхиной, какие струны социокультурного механизма современной России задеты этими текстами? Рискну сказать, что оба этих текста маркируют какой-то новый этап в современной прозе – ещё лишь смутно вырисовающийся, но всё-таки принципиально отличный от привычного хода литературного процесса. Возможно, данный этап можно назвать новым русским прозаическим барокко – и, говоря о барокко, я использую этот термин в самом широком смысле, как обозначающий такую стилистическую фазу в искусстве, где «движение выражено в массе» [2]*, где бытие рисуется в полноте его контрастов, где постоянное напряжение и ощущение полноты, пиршества, грандиозности жизни исподволь подчеркивает драматичность действительности. Одновременно эпоха барокко – это такой период в развитии искусства, где оно становится максимально зависимым от социальной среды и пытается отобразить, исказив через многочисленные приемы-«обманки», неравную конфигурацию сил духовного и социального, эстетики и политики.
Сегодня мы переживаем именно эту стадию балансирования в отношениях литературы и власти (последнее слово можно понимать в самом широком смысле). И, например, книга «Обитель», которая по словам Дмитрия Бутрина, «не гениальна, а лишь хороша и значительна» [3]*, хороша именно тем, что она даёт возможность нащупать эту точку равновесия.
В отношении оценок я, пожалуй, присоединюсь к похвалившим роман критикам и, в частности, с Галиной Юзефович, которая посчитала, что «Обителью» Прилепин «с большим запасом компенсирует все выданные ему ранее авансы» [4]*. Интересно здесь ещё и то, что «Обитель» вернула и по-новому переосмыслила жанр «bildungsroman», «романа воспитания», казалось бы, полностью закованный в рамки соцреализма. Один из знаменитых образцов этого жанра, барочный роман Гриммельсгаузена «Симплициссимус» (1669 г.), представляет своеобразный взгляд на классическую проблему формирования личности, решаемую именно приёмами барокко – где множественность ситуаций, нагромождение этапов и обстоятельств взросления подхватывает героя как река и уносит его по течению, лишая любого контроля, возможности проявить себя. В результате само взросление и становление оказывается недосягаемым, потому что этот качественный переход недоступен герою, отделён «стеклянным потолком» внешних обстоятельств, жёстких ограничений социальных практик. Иными словами, духовное становление героя априори невозможно в рамках той структуры, в которой этот персонаж функционирует. Это одна из тех «обманок», которые являются отличительной чертой барокко: использование формы, предполагающей определенный набор черт, – и разламывание, разрушение её изнутри: например, через несоответствие ей содержания или нереализованность традиционных приёмов.
Главный герой «Обители» (которую некоторые критики и определили как роман воспитания), Артем Горяинов, проделывает схожий путь. Первую половину романа мы наблюдаем, как он, захваченный потоком обстоятельств, проходит через череду сложных, драматических обстоятельств, которые для того и насыщают, даже переполняют роман, чтобы показать, как пребывание в лагере меняет человеческую личность, особенно такую крепкую, полную юной, стихийной энергии, как у Артёма. На первых порах стойкость и внутренний рост, который показывает Артем, восхищают его товарищей по лагерной жизни. Но в какой-то момент оказывается, что его умение сопротивляться разрушительному влиянию новой жизни отнюдь не безгранично, и жернова, заставляющие человека скатываться к животной примитивности, безразличию, потере души, перемалывают и Артёма. Те впечатляющие рост и стойкость, которые он показывал, достигают «потолка», максимальной планки, которую человек может взять в рамках страшной структуры исправительного лагеря. Становление невозможно, среда неодолима, внешние обстоятельства доминируют над внутренней силой – и такая конфигурация роднит «Обитель» с классическим барочным текстом Гриммельсгаузена, выявляя в обоих романах позицию вынужденного подчинения литературного – власти.
Что касается Гузель Яхиной, то «Зулейха открывает глаза» – конечно, никакой не роман воспитания. Однако та же самая тенденция – смирение, невозможность отдельно взятого человека противостоять аппарату власти, – наблюдается и в этом романе. Отличительные черты героини, Зулейхи, – терпеливость, безропотность и смирение, с которым она проходит через все перипетии судьбы. Полная противоположность ей – Иван Игнатов, сильный, волевой персонаж, который не потерял бы блеска и на страницах произведений Островского. Однако, сумев пережить трудности и спасти группу поселенцев от вынужденной зимовки на Ангаре, куда они были отправлены без подготовки, суровый Игнатов вынужден в конце романа уйти со сцены – сломанным, опустившимся, вызывающим жалость героем, чья бескомпромиссность и сила воли не спасла его и была подавлена системой.

«Обитель», безусловно, – главная книга последних лет, текст, в котором соединились самые разнообразные тенденции и ростки литературного процесса. До своеобразного переворота последних двух-трёх лет постсоветский литературный процесс отличался достаточной пестротой и разнообразием форм. В эпицентр внимания читателей (и писателей) периодически попадали тексты совершенно разного плана – и поэтические, и прозаические, и близкие к жанру магического реализма, и откровенно экспериментальные, и примыкающие к течению «нового реализма». Литературные премии, подчас справедливо, подчас – не очень (как это и положено литературным премиям) отмечали тексты с совершенно разными стилевыми, тематическими векторами. Впрочем, при всей этой пестроте, широту диапазона постсоветской литературы можно было отчеркнуть векторами авангарда, разрыва шаблонов, литературы бунта и непослушания – и, в противоположность этому экспрессионистскому взрыву – по контрасту суровым, если не спартанским реализмом.
Тенденции эти отчасти понятны: следуя за распадом супердержавы и того уклада жизни, в котором, по словам Алексея Юрчака, всё «было навсегда, пока не кончилось» [5]*, культура стремится проработать эту травму, возвращаясь к ней вновь и вновь. Как писал Александр Эткинд в статье «Работа горя и утехи меланхолии», работа горя ещё не выполнена постсоветской культурой, и непрерывное к ней возвращение – свидетельство, что процесс преодоления национальной травмы не завершён [6]8.
Схожий период культурной работы над травмой, например, можно было наблюдать в немецкой литературе второй половины ХХ – начала ХХI в., где эта работа выливалась в такие разные формы осмысления, как у Гюнтера Грасса, или Бернарда Шлинка («Чтец»), или в ещё не переведённом на русский язык романе Уве Теллькампа «Башня», который, как считается, наряду с «Аустерлицем» другого современного классика, Винфрида Георга Зебальда, подытожил это направление в современной немецкой литературе – причём именно в форме эпического романа.
За два с лишним десятилетия развития постсоветской литературы мы наблюдали, с одной стороны, стилистический бунт, эстетику противостояния и разрушения – постмодернизм, авангард, маньеризм, смещение фокуса с общего на частное, пародирование советской риторики, игру с устаревшими жесткими формами и конструкциями соцреализма. Но одновременно, как и положено по принципу маятника, продолжало (вначале тихо, на правах маргинального, но постепенно всё более и более громко) заявлять о себе реалистическое направление – причём именно в том изводе реализма, который восходил к советской школе.
Цитируя Захара Прилепина: «Для нового реализма было характерно критическое отношение к действительности, пересмотр постмодернистских критериев восприятия социума и культуры и отчасти возврат к советскому реалистическому канону. Характерно, что Шаргунов выступил в качестве исследователя биографии Фадеева (Сергей Шаргунов позже отозвал упоминаемый проект и анонсировал книгу про Валентина Катаева для серии ЖЗЛ. – О. Б.), а Прилепин – Леонова, писателей, к тому времени прочно забытых и фактически исключенных из литературного обихода. Так новые реалисты пытались осуществить возобновление литературной традиции, якобы прерванной в девяностые годы». [7]

Связь с советским прошлым манифестировала себя не только в публичных высказываниях и общих параллелях – она была усвоена и натурализована «новым реализмом» как осевой элемент эстетики: очень зримый, постоянно, даже чрезмерно подчёркиваемый – но одновременно работающий и на более тонком уровне, определяющий сверхзадачи этой школы. Механизм работы «советского» элемента хорошо иллюстрируется на примере еще двух значительных, даже краеугольных, современных текстов – романов «1993» Сергея Шаргунова и «Зона затопления» Романа Сенчина. Отсылка Сенчина к «Прощанию с Матёрой» Валентина Распутина очевидна была бы даже без прямого посвящения, однако нарочитость такой параллели маскируется тем, что родство этого современного романа и классического текста советской литературы не ограничивается темой, сюжетом или манерой рассказчика. «Прощание с Матёрой» – это повесть об извечной гегелевской борьбе противоположностей, старого и нового, традиции и инноваций, природы и человека» – то есть текст о вечных ценностях и темах. «Зона затопления» – напротив, текст, в котором конкретный исторический период исподволь сравнивается с другим, а современному миру с его устоями и порядками незримо противостоит образ идеального мира, не допускающего трагических историй, подобных описываемым в романе. Это сравнение, конечно, скрытое, и на страницах романа мы видим только тот мир иту историю – однако ностальгический привкус, сопровождающий незримый элемент сравнения, неназываемый мир, в котором всё могло бы быть иначе, да ещё и вкупе с яркой обличительной, «социальной» тональностью романа – легко позволяет восстановить уравнение и разглядеть за мечтой о мире, где не было бы сильных и слабых, бедных и богатых, советский проект и обрывки вечного разговора о достоинствах и недостатках советского режима. Таким образом, связующим звеном с повестью Распутина оказывается не столько тематика романа, сколько ссылка, через сходство сюжета, на тот мир и ту жизнь, в которых была написана и живёт повесть Распутина.
Похожим образом работает и советская аллюзия в романе Сергея Шаргунова «1993». Повесть построена на параллелизме двух «смутных» периодов уже постсоветской истории. Однако, как и в романе Сенчина, этот приём обманчиво привлекает внимание к внешнему, сюжетному сходству, и оставляет неартикулированной ту устремлённость к реалиям другого, уже не существующего мира, которая прячется за перипетиями в мире современном. И, как и в романе Сенчина, в «1993» этот «месседж» преподносится не напрямую, без назидательности и вынесения исторических оценок и суждений.
Роман «1993» – один из наиболее показательных современных текстов, в которые вернулось после длительного периода умалчивание, обсуждение «болевых точек» и тёмных периодов советского времени. Что касается Романа Сенчина, то, хотя сюжетно его творческий мир по-прежнему крепко укоренён именно в современной действительности, сам автор «Зоны затопления» и «Елтышевых» отметил, что главным предметом внимания новых реалистов становится день вчерашний. [8]*
В литературу вернулась история: гражданская война, раскулачивание, лагеря, этнические чистки – все эти темы вышли на новый виток актуальности, обрели новое звучание и воплощение. Если раньше обращение к этим темам было прерогативой диссидентской и андерграундной литературы, то теперь они пришли в «официальное» чтение. Любопытно, что, как и в немецкой литературе, постановка таких вопросов, задачи разрешения и преодоления национальной травмы оказались прерогативой эпического романа, ставшего эталонной формой для освоения культурно-исторических потрясений. Возможно, что определённую роль сыграли новые политические катаклизмы, ставшие стимулом к выходу на поверхность давно подавляемых тем и проблем. Но, вероятно, немаловажным оказалось и то, что диапазон жанрового и стилистического разнообразия, отличавший постсоветскую литературу, сузился под влиянием постепенного усиления и централизации политической власти – и, таким образом, литература стала отвечать симметричным жестом. Многообразие уступило место большей однородности и строгости, а литературное пространство в какой-то момент как будто оказалось поделено на крупные блоки романов, вытеснив на периферию остальные жанры. Траектория литературного поиска окончательно сузилась, «устаканилась» и отчётливо обозначила очертания того, о чём уже сейчас можно говорить как о показательном феномене современной литературы: становление нового «исторического», «реалистического» романа.
И то, и другое определение я беру в кавычки, чтобы не обманывать читателя: и «исторический», и «реалистический» – определения довольно условные и, по сути, являющиеся своего рода обманками; скорее, наоборот, новые романы мимикрируют под реализм и историзм, чтобы решать совершенно другие вопросы. В отличие от «Архипелага ГУЛАГ», «Крутого маршрута» и «Колымских рассказов», эта литература отказалась от идеологического пафоса, от обозначения позиций и расстановок оценок, приберегая прямые высказывания для публицистики и прессы. У нового романа есть ряд специфических черт, складывающихся в запутанную стилистику, прежде всего – конструкция самой модели. Одна из отличительных черт этой конструкции – в том, что его «эпичность» на самом деле не выполняет своей роли: создания всеобъемлющей, целостной картины, временно-пространственной полноты. Эпос по своей природе и задачам объективен, а его рассказчик – беспристрастен.
Истории народов и эпох сегодня преподносятся через призму биографий отдельных людей. От «Книги без фотографий» до «1993» Шаргунова, от «Вперёд и вверх на севших батарейках» до «Елтышевых» и «Зоны затопления» Сенчина, от «Саньки» до «Обители» Прилепина персональные нарративы заслоняют истории человечества, отодвигают их на второй план, но не вытесняют полностью – потому что становятся существенными и обретают романную плотность только в привязке к истории большего масштаба. Говоря об этой связи частного и исторического, Александр Котюсов обрисовывал [9]* на примере «Обители» и «1993» модель создания такого романа – наложение вымышленной (семейной) истории на реальные исторические события. Через совмещение нарративов разного масштаба возможно подсветить значение тех или иных исторических моментов, раскрыть их через реальное преломление в судьбах персонажей – иначе говоря, превратить историю учебников в историю от первого лица.
Но, в отличие от учебников и традиционного романа-эпопеи, это двойное масштабирование по умолчанию придаёт новому роману эпичность исключительно «лимитированного» характера, исключая из классического определения эпоса краеугольный элемент: объективность. Повествование, построенное через историю одного человека (или пусть даже через историю семьи, как у Шаргунова), заведомо лишено привычной для эпоса полифонии и отстранённости. Любые претензии на объективность, таким образом, вообще не «вписаны» в структуру «исторического» романа.
Эта условность текста освобождает писателя от жёсткого подчинения реальному историческому нарративу. Общий исторический план продолжает быть основополагающим элементом текста и во многом определяет его, но не доминирует, обнаруживая несколько вольное обращение с учебником истории.
Действительно, «Обитель» дала много поводов для фактологической критики. Яна Жемойтелите, например, критиковала Прилепина за небрежение такой значительной фигурой как Флоренский. Александр Котюсов, как и Роман Сенчин, указывает на многие недостатки в романе – небрежность с датами и сближение разных хронологических точек [10]*, приведя в пример фильм «Броненосец Потемкин», хронология которого максимально достоверна исторически. В этом сравнении, однако, мне видится определенная логическая неточность: фильм Эйзенштейна всё-таки посвящён конкретному историческому событию, где большинство героев – лишь условные фигуры, пешки, воссоздающие ход действия и сценографию событий, а вовсе не историю человека. «Обитель», как и «Зулейха открывает глаза», – романы не о Соловецком лагере особого назначения и не о раскулачивании татар. Здесь, пожалуй, стоит вспомнить еще одно утверждение из критических отзывов на роман Прилепина – высказывание Александра Свирилина о том, что «исторический роман – в той или иной мере всегда фальсификат, пусть даже и искусно сработанный» [11]*, в том смысле, что даже создание «исторически верного», претендующего на максимальную правдивость полотна заведомо обречено на провал. Но новый исторический роман и не претендует на такую правдивость. В «Обители» уже сама игра с именем Эйхманса – Эйхманиса предупреждает, что перед нами – скорее намеренная игра, лабиринт, нежели претензия на создание исторически верного эпического полотна. Как намеренно искажено имя исторического прототипа, так и разворачиваемая автором картина – заведомо искажённая версия, обманка. В этом смысле и сужение диапазона видимости до одного персонажа или небольшой группы персонажей говорит об отсутствии намерений отстоять какую-то версию событий прошлого, традиционную или апокрифическую.
Таким образом, «Обитель» – не исторический роман как таковой, потому что его автора интересует не история, а нечто другое. На мой взгляд, это снова двойная игра, где «историческое» – форма для современного романа, барочный приём, балансирование на грани реального и вымышленного, совмещение их в пространстве произведения искусства. И это – не единственное сходство с эстетикой барокко. В критических отзывах на «Обитель» заметен упор на полемику об идеологической составляющей романа, о том, оправдывается или не оправдывается в нём советская власть, о задачах романа в рамках сегодняшней действительности. Но эти вопросы, по сути, нивелируются самой конструкцией романа. Наиболее часто повторяемые в тексте «Обители» слова – о том, что нет разницы между палачом и жертвой, что наглядно демонстрирует развитие событий в «Обители». Идея двойственности, постоянной замены, идея вариативности лежит в основе романа, послание которого, если оно и есть, заключается в том, что всё относительно и всё взаимозаменяемо. И эта идея распространяется не только на общие рамки сюжета, но полностью пронизывает конструкцию романа: например, как подмечает Яна Жемойтелите, для главного героя Артема его любовница Галина играет роль матери, и то же время они, по принципу «палач и жертва неотличимы друг от друга», постоянно перехватывают друг у друга роли карателя и узника [12]*.

Взгляд на роман как на комбинацию взаимозаменяемых элементов снимает вопрос о его идеологизированности и ангажированности. Текст, не построенный на определенной версии событий прошлого, не может ставить целью воссоздать это прошлое: разве что создавать альтернативные вариации и версии. Прошлое здесь важно в первую очередь потому, что оно может рассказать о настоящем. И главная цель этой литературы, её вклад в культурное сознание нации – не пересказ частной истории, но уплотнение общей; попытка впечатать глубже в общественное сознание саму память, само знание о событиях прошлого – но не задавать их интерпретацию. И это делается не только через обращение к определённым сюжетам – ведь уплотнение, насыщенность характерны и для самого языка, которым написаны эти романы.
О языке «Обители» критики высказывали самые разные мнения – от обвинений в недостаточной его художественности до похвал великолепной работе с языком, его убедительности, чувственности и яркости. Карен Степанян обратил внимание, что у Прилепина «язык повествования сильный, запоминающийся, но главным образом в описании физиологических ужасов соловецкого существования» [13]* – отметим здесь именно убедительность в передаче физиологического, телесного. О схожем качестве прозы Гузель Яхиной написала Галина Юзефович.
Читая, как Зулейха гладит по носу полуторамесячного жеребенка, чувствуешь сразу и шершавость ее ладони, и бархатистость лошадиной шкуры, и теплый исходящий от животного запах. Если она мерзнет, рефлекторно прячешь ноги под плед. Боится – оглядываешься через плечо. Весь роман в целом понятен и предсказуем до зевоты, но каждый отдельный эпизод таит в себе зародыш чуда. Пытаешься проследить это чудо на уровне хотя бы одной сюжетной линии – оно тает, просачивается сквозь пальцы[14]*.
Ярко выраженная «телесность», в противоположность воздушности, эфемерности, лёгкости, является одной из главных характеристик стиля барокко. Эта литература насыщенна до избыточности и тяжеловесности, а иногда и до вычурности (что тоже вменялось в вину «Обители»). Но наиболее существенно для нас – что это качество в очередной раз сближает тексты Прилепина и Яхиной. При выборе совершенно разных сюжетов и разных рассказчиков, при абсолютно несовпадающем ритме нарратива, при таких разных манерах повествования – и «Обитель», и «Зулейха открывает глаза» углубляют в нашем сознании не только представления о Соловках и раскулачивании, но и представление о том, как когда-то огромная, амбициозная страна приобретала тело и плоть. И это воплощение, это развитие образа Советского Союза как мощной, угрожающей державы, построенной на крови и костях миллионов людей, – всё это читатель постигает не только следя за героями и событиями, но и узнавая их через тот тяжелый, плотный и «телесный» язык, где, если снова цитировать Вёльфлина, «движение <…> выражено в массе».
На фоне вырастающей на страницах книг державы-монстра, чудовища политической власти, человек выглядит безнадёжным, бессильным, беспомощным – однако нельзя сказать, что невидимым. Связующим звеном между империей и песчинкой-человеком становится религия. И в этом контексте постоянное присутствие религиозного в тексте закономерно. И у Прилепина, и у Яхиной вопросам веры и религии уделяется много внимания, и вера, наряду с безжалостными чекистами, служит именно тем элементом, который структурирует и определяет отношения лагерников или переселенцев с властью в целом. Эти отношения эти могут строиться лишь по одной модели – поэтому и ислам у Яхиной, и христианство у Прилепина – это те силы, в которых герои ищут смирения, средство примирения человека с осознанием своей ничтожности перед лицом всеобъемлющей машины власти.
Подобным было и соотношение религии и власти человека, лежавшее в основе эстетики барокко. Течение барокко зародилось именно в тот момент, когда Римская католическая церковь нуждалась в опорном элементе для борьбы с революционными движениями и новыми взглядами на религиозные институты Реформации. Монументальность барокко придавала католицизму ощущение зрительной устойчивости, грандиозности и непоколебимости. Эти же цели преследовал во многом и соцреализм с его тенденцией к созданию жёстких, неизменных форм повествования и утверждением в сознании читателей определённых представлений о структуре и роли власти в обществе. Современный роман делает это гораздо менее очевидными средствами, прячась за сюжеты, затрагивающие национальные травмы – что, как правило, является признаком именно ревизионистского, критического подхода – и тем сильнее укрепляя исподволь, как в «Обители», так и в «Зулейха открывает глаза», – представления о грандиозности исторического фона. Ведь несмотря на все слабости, справедливые поводы и подверженность критике, власть всё равно побеждает, всё равно перемалывает любые человеческие жертвы, усилия, а масштабность её умаляет любые движения человеческой души, рост и становление.
Литература, вне зависимости от того, аполитична она или ангажированна, оторвана от реальности или стремится оставаться на передовой социальной мысли, всегда пребывает в состоянии борьбы с властью, поиске баланса в расстановке сил. Феномен власти и её восприятия писателем, вне зависимости от того, насколько эта связь доминантна для его творчества, лежит в основе любого творческого замысла, и это тем важнее, чем менее намеренно выражено в тексте, чем меньше писатель стремился написать именно об этом – потому что иногда важнее знать, какие темы писатель старался обойти, а решение каких – посчитал для себя очевидным.
Сказанное и умалчиваемое, их соотношение могут сказать об эпохе больше, чем сюжеты книг, написанных в определённые периоды времени. «Обитель» и «Зулейха открывает глаза» говорят о нас больше, чем о Соловках и освоении Сибири.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1 О метасюжете новейшего русского романа и его связи с советским дискурсом см. также: Сергей Оробий. Вечное возвращение в Советский Египет // Лиterraтура, № 56; Сергей Оробий. Советский хронотоп forever // Лиterraтура, № 36. Об историческом романе на фоне литературного процесса и книге Гузель Яхиной также см. статью Александры Рэдулеску: Усталость жанра – или новые горизонты? //Лиterraтура, № 56. Рецензия Андрея Рудалёва на роман Захара Прилепина «Обитель» – в Лиterraтуре, № 18. – Прим. ред.
2 Генрих Вёльфлин, «Ренессанс и Барокко». М., 2004.
3 Дмитрий Бутрин. Удача вопреки. Рец. на кн.: Захар Прилепин. Обитель. М: АСТ, 2014 // Colta.ru, 26 июня 2014.
4 Настала лучшая пора. Галина Юзефович о романе Захара Прилепина «Обитель» // Сайт Art1, 15.04.2014
5 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / Алексей Юрчак; предисл. А. Беляева; пер. с англ. — М.: Новое литературное обозрение, 2014.
6 Александр Эткинд. Работа горя и утехи меланхолии // Неприкосновенный запас, 2013, № 3 (89)
7 Захар Прилепин. Новый реализм // Сайт Собака.ру, 3 мая 2012.
8 Роман Сенчин. Новые реалисты уходят в историю // Литературная Россия № 33 — 34, стр. 201.
9 Александр Котюсов. Изображая правду // Волга, 2014, № 9-10.
10 Роман Сенчин. Указ. соч.
11 Александр Свирилин. Одна осень Артема Горяинова // День и ночь, 2014, №15.
12 Яна Жемойтелите. За книжками: сверхчеловеки и карлики // Ведомости Карелии, 07.05.2014
13 Карен Степанян. Метафизика и физика // Знамя, 2015, № 3.
14 Галина Юзефович. Следы на воде, Зулейха и завидное чувство Веры Стениной Женская проза // Сайт Meduza